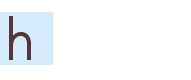Мой папа и какой-то скворечник...
Март 2017
Вчера был год, как папы не стало.
Вчерашний день прошел в делах и в пронзительном вспоминании, было солнце и была весна. И сегодня. Я живу. И он со мной.
Год и несколько дней назад пришло сообщение от сестры: «а ты собиралась приехать?» Нет, не собиралась. Он перестал есть и пить, то есть еще только несколько дней. И ночной рейс влек меня в темноту России, где на кровати, смущенный от боли и слабости, в постоянной полудреме и полу-непонимании лежал он, мужчина, приславший меня в жизнь.
Я не знала, как все будет. Было пространство внутри, постичь которое невозможно. Пространство, незадолго до смерти.
Вчерашний день прошел в делах и в пронзительном вспоминании, было солнце и была весна. И сегодня. Я живу. И он со мной.
Год и несколько дней назад пришло сообщение от сестры: «а ты собиралась приехать?» Нет, не собиралась. Он перестал есть и пить, то есть еще только несколько дней. И ночной рейс влек меня в темноту России, где на кровати, смущенный от боли и слабости, в постоянной полудреме и полу-непонимании лежал он, мужчина, приславший меня в жизнь.
Я не знала, как все будет. Было пространство внутри, постичь которое невозможно. Пространство, незадолго до смерти.
06 марта 2016
«Я знаю наизусть его мощные руки, мягкие и мясистые. Как они берут вещи, дерево, инструменты, как они держат гвоздь, чтобы он не скривился под молотком, как они сглаживают древесную пыль при шлифовании, как они охватывают ствол дерева, чтобы поднять, как ведут доску у циркулярки. Циркулярка – какое чудное слово. Его слово. И ничего не страшно, нет никаких мер безопасности, только внимательность и ясная хватка рук. Фотоаппарат. Мне понадобилось долго, чтобы произнести это слово. Почему, почему, - не понимала я, - он так злится. У меня просто не получалось его выговорить. Я помню это состояние: я снова и снова старалась, но язык не слушался и хотелось плакать, и я так хочу, чтобы получилось, для него. Так хотелось его признания, всю жизнь.
Я всю жизнь хотела признания. И хотелось то ли плакать, то ли бороться, на грани между сдаться и выиграть, но очень хотелось признания – как тогда со словом фотоаппарат. Напрямую или окольными путями я стремилась доказать, что я больше, чем есть, потому что мне самой то, что было, казалось не достаточным. Потому теперь я могу непосильное, выдерживаю нереальное. Фотоаппарат.
Его насмехающийся взгляд. Мне понадобилось все моё детство, чтобы научится держаться под этим взглядом. Больно – не показываем. Безэмоционально держаться, убеждаем себя. А мне ни по чем. Мне все равно. Больно. Мне всю жизнь было больно и все равно от его надменных взглядов, пока после моего процесса я не поняла, как с ними обходится по-другому. И нельзя было защищаться, система проста: уходить в себя и НИЧЕГО не показывать, пусть лопнут в попытках задеть. «Такая разумная и самостоятельная»… Это был мой выход. Моя система, чтобы выжить.
Как проявлять фотографии. В темной ванной, волшебство красной лампы и медленное проявление пятен на бумаге, вначале только догадка, в какую сторону фотография лежит… Одеяло под дверью, чтобы свет не сочился.
Какой-то скворечник. Что это был за скворечник в ванной комнате? И черёмуха на даче, я обожаю лазать по деревьям. Папа, смотри, гордись. Ведь это геройство. Ты же любишь героев! Я герой, смотри на меня!
Всю жизнь. Папа, я герой, смотри на меня! Не смотришь, кажется, не видишь. Тогда я сама. Навсегда сама.
Его скоро не станет. И это состояние «я сама» останется навсегда. Я лечу к нему. Мы уже давно не рядом.
Он живет во мне из детства, когда еще были велосипеды и лето, и можно было укатить нафиг за запретный лес. Он живет во мне, когда можно было «помочь папе» подержать доску, подавать гвозди, красить стены дома, держать молоток. Сидеть на бревнах. «Помогать папе» означало быть с ним, намного замечательнее, чем помогать маме, потому что помогать маме означало быть одной.
После эпохи дачи и стройки папы почти не стало. Только ограничивающий, не наказывающий, но осуждающий. Зачем он мне такой? Последняя попытка разговора и откровенности, провал и внутренний разрыв навсегда. И навсегда невысказанность, потому что не докричаться, и навсегда «папа, смотри и гордись мной», отцовский образ, выжженный во мне. Страх перед отторжением, тоска по близости, представление, каким должен быть настоящий мужчина… Как долго мне понадобилось, чтобы найти себя без этих рамок, чтобы повстречаться с ним по-другому внутри себя. Я лечу к нему, увижу ли я его хоть раз по-настоящему вживую?
Подожди, папа, мне надо тебе многое сказать, не уходи, подожди».
Я всю жизнь хотела признания. И хотелось то ли плакать, то ли бороться, на грани между сдаться и выиграть, но очень хотелось признания – как тогда со словом фотоаппарат. Напрямую или окольными путями я стремилась доказать, что я больше, чем есть, потому что мне самой то, что было, казалось не достаточным. Потому теперь я могу непосильное, выдерживаю нереальное. Фотоаппарат.
Его насмехающийся взгляд. Мне понадобилось все моё детство, чтобы научится держаться под этим взглядом. Больно – не показываем. Безэмоционально держаться, убеждаем себя. А мне ни по чем. Мне все равно. Больно. Мне всю жизнь было больно и все равно от его надменных взглядов, пока после моего процесса я не поняла, как с ними обходится по-другому. И нельзя было защищаться, система проста: уходить в себя и НИЧЕГО не показывать, пусть лопнут в попытках задеть. «Такая разумная и самостоятельная»… Это был мой выход. Моя система, чтобы выжить.
Как проявлять фотографии. В темной ванной, волшебство красной лампы и медленное проявление пятен на бумаге, вначале только догадка, в какую сторону фотография лежит… Одеяло под дверью, чтобы свет не сочился.
Какой-то скворечник. Что это был за скворечник в ванной комнате? И черёмуха на даче, я обожаю лазать по деревьям. Папа, смотри, гордись. Ведь это геройство. Ты же любишь героев! Я герой, смотри на меня!
Всю жизнь. Папа, я герой, смотри на меня! Не смотришь, кажется, не видишь. Тогда я сама. Навсегда сама.
Его скоро не станет. И это состояние «я сама» останется навсегда. Я лечу к нему. Мы уже давно не рядом.
Он живет во мне из детства, когда еще были велосипеды и лето, и можно было укатить нафиг за запретный лес. Он живет во мне, когда можно было «помочь папе» подержать доску, подавать гвозди, красить стены дома, держать молоток. Сидеть на бревнах. «Помогать папе» означало быть с ним, намного замечательнее, чем помогать маме, потому что помогать маме означало быть одной.
После эпохи дачи и стройки папы почти не стало. Только ограничивающий, не наказывающий, но осуждающий. Зачем он мне такой? Последняя попытка разговора и откровенности, провал и внутренний разрыв навсегда. И навсегда невысказанность, потому что не докричаться, и навсегда «папа, смотри и гордись мной», отцовский образ, выжженный во мне. Страх перед отторжением, тоска по близости, представление, каким должен быть настоящий мужчина… Как долго мне понадобилось, чтобы найти себя без этих рамок, чтобы повстречаться с ним по-другому внутри себя. Я лечу к нему, увижу ли я его хоть раз по-настоящему вживую?
Подожди, папа, мне надо тебе многое сказать, не уходи, подожди».
11 марта 2017
Я успела тогда. Мне даровано было счастье проститься с отцом. Я сидела у него, гладила его лицо, целовала его скулы, лоб, его жутко похудевшую голову… И слова текли ровно и значимо, впервые такие и в последний раз такие вживую. О его наследии, его руках и гвоздях и циркулярке, и фотоаппарате и лете и велосипедах. И о том, что он жив во мне, и я помню. И о том, что у моего сына такая же лопоухая башка и он так же задорно смеется… И о том, что я люблю его. Он боялся, что мы запомним его таким ущербным. Что ты, папа, тебя гораздо больше внутри. Он знал, что мы прилетели проститься. И он знал, что мы больше не прилетим, смотрел испуганно немного и как-то, не зная, как справляться с таким моментом. Я держала его очень холодную руку – не надо справляться, все хорошо, папа, я здесь. И ты навсегда здесь, видишь? Рука на сердце. И о том, что у меня всегда была связь с ним внутри, даже когда я подолгу не звонила и не приезжала. Что мне всегда очень хотелось, чтобы он гордился мной… Он смотрел только и улыбался. «Я очень хотел сына…», - «я знаю. Я очень старалась, но не могла вылезти из моей шкуры». Зачем ему знать, что я еле научилась быть женщиной, что я годы боролась с тем, чтобы перестать стесняться своего девичьего тела. Я чувствовала боль и тот старый шрам, что он хотел не меня, и мои годы роста, мой процесс, моё нахождение себя – и нахождение любви к нему снова, безусловной любви. И теперь было только ровное знание – куда бы он ни ушел, я все равно буду любить его. И я чувствовала прощение за все и просила простить меня за то, что и я причиняла ему боль. «Ты держишь еще на меня обиду?» - «Да нет, чего там. Со временем улеглось».
Он ушел 3 дня спустя. Вчера был год, как его нет. И конечно, он есть. Он есть всегда, потому что я живу. Но не обида и не поиск, и не «посмотри на меня и гордись» - нет. Теперь он просто есть как мой папа. Сегодня я мастерила с сыном, и он держал мне отвертку и подавал шурупы. И эти минуты растягивались для меня в вечность, как в замедленном фильме. Спасибо папа, что ты такой был. Мой сын хорошо держит молоток. Фотографии мы еще не проявляли, но уже мастерили какой-то скворечник… Вчера был год. Завтра был бы его день рождения.
А дальше еще целая жизнь.
Он ушел 3 дня спустя. Вчера был год, как его нет. И конечно, он есть. Он есть всегда, потому что я живу. Но не обида и не поиск, и не «посмотри на меня и гордись» - нет. Теперь он просто есть как мой папа. Сегодня я мастерила с сыном, и он держал мне отвертку и подавал шурупы. И эти минуты растягивались для меня в вечность, как в замедленном фильме. Спасибо папа, что ты такой был. Мой сын хорошо держит молоток. Фотографии мы еще не проявляли, но уже мастерили какой-то скворечник… Вчера был год. Завтра был бы его день рождения.
А дальше еще целая жизнь.
© Дария Маркин, Институт Хоффмана
Читайте также